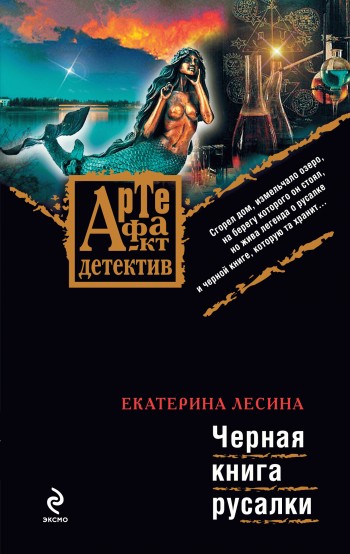 Часть I
Часть I
По воде, догоняя и поторапливая друг друга, побежали круги. На черной, точно шелковой глади озера они казались белыми, ровными, будто вычерченными циркулем. И это было неправильно. Сам сон был неправильным, но Лизавета привыкла.
Она снова шла, нащупывая ногой земляной гребень, снова боялась оступиться и, потеряв равновесие, рухнуть в одну из ям справа или слева. Теперь, во сне, они снова оживали, наблюдая за Лизаветой, за тем, кто шел следом, сотнями слепых, рыбьих глаз.
И закричать бы, вырваться из липкой паутины, скинуть мокрую рубашку, что прилипла к телу, замедляя шаги. Но из сна не выбежишь. От того, кто шел по следу, тоже не скроешься.
Серп в руке, сажа на лице, всклоченная борода и ласковая улыбка. Сумасшедший!
– Лиза, Лизонька, не убегай!
Озеро глушит голос одним тяжелым вздохом, вода подымается и, как когда-то, накрывает его с головой.
– Лизонька!
– Елизавета Никитична, Елизавета Никитична! – зов извне, настойчивый и испуганный. Пятно света, желтого, масляно-робкого, прогоняет темноту. Лизавета заслоняется ладонью и просыпается, привычно удивившись, до чего ярким вышел сон. Неправдоподобно ярким.
Впрочем, как всегда.
– Ох, Елизавета Никитична. – Компаньонка поставила лампу на стол и, вяло зевнув, повторила: – В церковь бы вам, к батюшке, помолиться да душу облегчить. А то и на поклон съездить, я слышала, что под Новгородом, в лесу, схимник обитает, святой человек, который...
За окном ветер шумит, скользят по стеклу отсветы лампы, точно огненные сполохи по небу. И думается о том, что не к святому ехать, ища свободы от прошлого, а домой вернуться надо.
Домой. Ей ведь давно хотелось, очень давно, вот только возвращаться некуда.
Разве что ненадолго.
Разве что посмотреть.
Высокий берег, озеро, белые косы песка, облака и сверху, и снизу, под ногами. Старый дом со скрипучими ставнями, нервный и обидчивый, живой, как и все когда-то давно. Тайная комната. Железная русалка. Черная книга...
Смерть.
Нет, не следует возвращаться туда, тем более что нет ни дома, ни книги, ни русалки, но... тянет.
– Шурка, помолчи, – велела Лизавета. Сев на кровати, уверилась, что сон еще долго не придет, и предложила: – Хочешь, историю расскажу?
Компаньонка хотела только спать, и желание это явственно отражалось на круглой ее физиономии. В облике Шурочки все тяготело к отдохновению: мягкие подушки щек, припухлые веки со снулыми, бестолковыми глазами, широкий рот, привыкший кривиться, глотая зевки, или же, когда Шурочка впадала в дремотную мечтательность, неприлично разеваться.
Ну и пусть, глядишь, ничего и не запомнит, а Лизавете выговориться надо.
– Давным-давно жил на свете алхимик и чернокнижник... нет, сначала он не знал, что он – алхимик и чернокнижник, это был самый обыкновенный мальчик, которому выпало рано осиротеть...
В Шурочкиных глазах тотчас заблестели слезы. Жалостливая.
– Но однажды случилось то, что изменило всю его жизнь. Мальчик встретил русалку.
Озеро Мичеган на самом-то деле и озером сложно было назвать, так, озерцо, а то и вовсе – обыкновенная лужа, по берегам поросшая рогозом, выметывавшим по осени высокие коричневые свечи, да густым, ломким ивняком. По весне и осени, набравшись дождей, оно расползалось темною, смердящей водой, а летом высыхало, оставляя на берегах путаные комки ряски, которые местные бабы звали русалочьими волосами. В общем, ничего-то необыкновенного, кроме названия.
Насчет него имелось несколько версий, среди которых нашлось место и излишне романтичному паничу, мечтавшему переселиться в Америку, и американскому шпиону, утопленному в оной луже где-то в конце тридцатых, и упившемуся до помутнения разума чинуше из района, который и превратил «Мичеганово» в «Мичеган». Где правда, неизвестно, да и мало кого она интересовала, эта правда. Было себе озеро и было, лежало меж четырех деревень, не то разделяя и разграничивая, не то, напротив, объединяя. Гоняли к Мичегану коров, носили белье полоскать, топили жуков колорадских да и просто посидеть приходили, поорать песни, посплетничать, рассказать, послушать, обсудить... да и мало ли дел?
Шло время. Закрылся, обанкротившись, молочный заводик в Хитровке, разорились и фермы в Калючах, поросли каменными дачами Стремяны, отгородились заборчиками, ощетинились видеокамерами, наполнились жизнью иной, чуждой и порождающей зависть. И только Погарье на первый взгляд осталось прежним: две перекрещенные улочки, старые, но крепкие и аккуратные домики, сельпо, почта и даже библиотека, впрочем, не работающая. Перемены пришли в Погарье в последние годы, когда разросшийся дачный поселок переметнулся через темные воды Мичегана, оставив на другом берегу первый из домов: нарядный особнячок в два этажа с кокетливым балкончиком и двумя пухлыми колоннами на фасаде.
– Навор-р-ровали, сволочи, – сказал дед Нестор, сплевывая в сторону особнячка. И окурок швырнул и, наступив изношенным берцем, втоптал в размякшую по дождям землю. – Наворовали, а теперь строятся.
– От все б вам, дядьку, чужие гроши посчитать. – Клавка, привалившись на подоконник, разглядывала ногти. Хороши – длинные, заостренные, покрытые глянцевым красным лаком и намертво прилепленные суперклеем. – Может, они заработали.
– Ага. Заработали. Как же. На твоем, дура, горбу...
– От скажете тоже.
– А то и скажу! И скажу! – Дед завелся, поднял клюку и грозно потряс в воздухе. – Я таких-от стрелял! К стенке и без жалости! Слышь ты? Без жалости!
Клавка только повела плечами. Ни одному слову она не поверила, потому как все в Погарье знали, что служил дед Нестор в стройбате, винтовки отродясь в руках не держал, а уж убить кого... он же и кур резать соседа зовет, от вида крови дурнеется ему.
– Ладно, дурында. – Дед успокоился и, сунув в зубы цигарку, велел: – Тушенки дай. И карамельков. Барбарисовых.
Можно подумать, он когда-нибудь покупал другие. И вообще, мог бы для приличия и в магазин зайти, а не через окно орать. Но Клавка ругаться не стала, сегодня она пребывала в настроении радужном и портить его не имела желания.
Она поднялась, потянулась, упершись руками в поясницу, смачно зевнула, чихнула и медленно направилась в глубь магазина. Узкое помещение, загроможденное у левой стены ящиками, словно бы разделялось на две половины. Ближе к выходу, там, где стену прорезало огромное, забранное снаружи решеткой окно, было светло, плавали в воздухе пылинки, то подымаясь к потолку, то забиваясь в углы серыми легкими комками уже не пыли, но пуха; натужно стрекотал одинокий сверчок. Ближе к подсобке, где стояли ящики с тушенкой, царили сумерки, а в углах и вовсе темнота. Шебуршали мыши, тускло поблескивали кругляши кошачьих глаз, пахло подгнивающей капустой и бражкой.
Клавка на ощупь нашла нужный ящик, вытащила две банки и с непредставимой для ее объемов поспешностью вернулась в торговую залу. Сыпанула на весы потекших на жаре карамелек, походя отметила вес, прибавив привычные двадцать граммов, и сгребла барбариски в кулек из оберточной бумаги.
– Дядька Нестор, – крикнула она. – Платить как будешь? Деньгами или на книжку писать?
Другому так и вовсе не предлагала бы, но дед Нестор – сосед, да и молоко со скидкой продает, а потому...
– Дядька Нестор!
Не ответили. Клавка начала злиться. Что за неуважение такое? Можно подумать, у нее делов других нет, кроме как глотку драть.
– Эй! – Она шлепнула на подоконник банки. – Забирай! С тебя...
Клавка замолчала, сообразив, что под окном никого нет. Вот ведь странность. Куда он мог подеваться? И тушенки не дождался, и карамелек... вообще он никогда прежде так себя не вел.
Случившееся заняло Клавкины мысли минут на пять, после они переключились на стрелку часов, добравшуюся наконец до цифры «три», на грядущий вечер, свидание, каковое обещало серьезные перемены в Клавкиной жизни, и снова – на ногти. Уж больно хороши, и не скажешь, что накладные.
Место для засады Гришка выбирал тщательно, не поленившись провести рекогносцировку местности, во время которой заприметил густой малинник, весьма и весьма подходящий для его целей. Прямо посеред кустов росла яблонька-дичка, невысокая, но разлапистая, с пышной кроной да крепкими, перевитыми между собою ветвями. Под нее-то Гришка и притащил сначала табуретку, потом покрывало, вытащенное из жениных запасов, а к нему и махонькую, никчемушную подушечку. Прикрыл добро куском брезента, чтоб не замокло по дождю или росе, и все равно целую ночь ворочался: а ну как заприметил кто? Но нет, вроде спокойно. По утру стлалось в вышине блеклое небо с драными облаками и кругляшом солнца, разливались жаворонки, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы.
Откинув брезент, Гришка приставил табурет к яблоньке, поплевал на руки и ловко, вспоминая прошлые боевые годы, ухватился за ветку.
Скользкая, падла! И лишайником густенько поросла. Ну ничего, раз, другой, третий... хекнув, Гришка подпрыгнул и неловко заскреб сапогами по древесной коре, уцепился за сучок, завис на долю секунды, отдыхая, а потом-таки сдюжил, взобрался.
– То-то же, – сказал он неведомо кому. Поправил съехавшую было кепку, подаренную женой на двадцать третье февраля, поскреб живот и, устроившись поудобнее, достал бинокль.
Тот был хорош, немецкий, трофейный, еще дедом Гришкиным с Берлину привезенный, тщательно оберегаемый, хотя в Погарье раньше совсем и не нужный. До сегодняшнего дня.
Гришка снова поерзал, перекинул ремешок через шею, ухватился обеими руками за ветку повыше. Приподнялся, уперся ногой в развилку да вскарабкался еще.
– Ото ж! – радостно прогудел он, устраиваясь меж расходящихся натрое ветвей. – Буде вам... от и буде.
А и впрямь хорошее место: слева, отгороженное штакетником рогоза, расстилается озеро, справа уходит в горизонт поле, прямо по курсу – дачи. Впрочем, они интересовали Гришку постольку поскольку, и бинокль он притащил отнюдь не для того, чтоб архитектурными изысками любоваться. Нет, мечтал он об ином, давно мечтал, всю зиму и весну, а теперь вот решился.
– Ну еж твою... – первый двор был пуст. Сквозь тонированные стекла даже дедов бинокль с многократным увеличением не мог проникнуть. Подавив разочарование, Гришка переключился на второй объект. Тоже пусто. На третьем забор высок. И на четвертом...
На пятом, на той, ближней, даче наконец повезло. Развалились прямо перед домом, постеливши на газон белое с синим покрывало, вот Гришкина супружница в жизни не позволила б такое об траву пачкать, а эти лежат, книжки читают, черешню едят да в ус не дуют. А Гришка за ними смотрит.
– Ох ты етить... – крикнул он от удивления, спугнув серо-желтую пичугу, приткнувшуюся веткой выше. А что, дамочки-то хороши, аккурат как Гришка себе и представлял. Одна худая, чернявая, ну чисто цыганка, правда, физии не разглядеть – очки нацепила в пол-лица, зато все остальное прям как на картинке. Купальник на девице красненький, срамной – три треугольника ткани да пара веревочек, на боках бантиками завязанных.
– Э-э-эх, – вздохнул Гришка, представив свою благоверную в таком. Стало грустно. Поэтому он поспешно переключил внимание на вторую девицу. Та лежала на боку, повернувшись к подруге и Гришке спиной, но через бинокль были видны и каштановые, собранные в узел волосы, и золотая цепочка на шее, и впившиеся в белую кожу лямки бюстгальтера, и сдобные круглые ягодицы, и даже царапина на лодыжке. Дамочка перевернулась на спину, потянулась... а черная привстала и принялась возиться с бантиками на боках. Неужто снимет?
От волнения в горле пересохло, руки вцепились в бинокль, а Гришка мигом перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Оказалось, зря: щеку вдруг полоснуло огнем, да так, что прям перекривило всего, Гришка дернулся, хлопнул по физии, добивая пчелу, и от резкого движения рухнул вниз.
– Твою ж... – повторил он, с кряхтеньем подымаясь из малинника. Плечо ныло, руки покрывала мелкая сеточка царапин, а щеку треклятую так и дергало, да и зуб, который он с прошлого года залечить собирался, враз о себе напомнил. Но бинокль был цел, яблоня стояла, манила, обещая зрелище, каковое, может статься, он никогда больше увидеть не сподобится. И Гришка, превозмогая боль, полез обратно: по второму разу это оказалось легче, и он, ободренный нежданной, пусть и совсем махонькой удачей, с упоением принялся обшаривать взглядом дворы.
Пусто, пусто, пусто... покрывало лежит, миска с черешней тоже, книжка вон обложкою вверх. А дамочки где? Где дамочки? В дом убрались? Обида и разочарование затопили Гришку с головой, он почти было убрал бинокль, когда...
Он сразу-то и не понял, что именно увидел. А сообразив, разом позабыл и про плечо, и про щеку, и про зуб. Он смотрел, открывши рот от ужаса, не смея шелохнуться, проклиная себя за тот день, когда в голову вообще такая мысль – подглядеть за дачницами – пришла. Потом же, когда первая немота немного отпустила, Гришка, сам не помня как, скатился с яблони, ломанул через малинник прямиком к Погарью. Выбежал к сельпо и, задыхаясь от бега и пережитого ужаса, ухватился за подоконник и заорал прямо в удивленное Клавкино лицо:
– Убивают! Там человека убивают!
– Опять нажрался, – ответила Клавка и предупредила: – В долг не дам.
Гришка лишь рукой махнул – ну ее, дуру – и повторил:
– Там это... того... человека убивают. На дачах. Сам видел!
Схватился было за бинокль и только сейчас осознал, что нету его, потерялся. Дедов, немецкий, трофейный, из самого Берлина привезенный. Потерялся. Вот просто так взял и потерялся, бросил Гришку...
– Теть Оль, меня мутит. – Ксюха, вытянувшись на покрывале, упала лицом в книжку. И глаза закрыла в знак протеста перед насилием, которым, по ее мнению, являлся этот самый том, толстый, нудный, но определенный школьной программой.
Ольга не дрогнула. За прошедший месяц она успела изучить Ксюхины уловки и, более того, привыкнуть к ним. А потому лишь пожала плечами, подвинула бутылку с минералкой, сказала:
– Воды попей.
– Не хочу, она теплая.
– Сходи и возьми холодной.
– Горло заболит.
– Тогда пей теплую.
– Ой и нудная же ты. – Ксюха, ухватив губами страницу, принялась методично жевать. Надеялась ли она таким способом постичь тайный смысл произведения, либо, что гораздо вероятнее, попросту убивала время, но в любом случае занятие это, впрочем, как и все Ксюхины занятия, раздражало. – Я знаю, почему маман именно тебя выбрала. Чтоб я с тоски загнулась...
Она вдруг села, икнула, ряззявив рот, и пробормотала:
– А теперь меня в натуре мутит.
В следующее мгновение Ксюху вывернуло, прямо на травку, на одуванчик и прикорнувшую на нем божью коровку. В довесок в Ксюхином животе заурчало, и Ольга обреченно прикрыла глаза: грядущие три месяца совместного проживания в такие минуты виделись ей вечностью.
Дело было даже не в Ксюхиной вредности, избалованности и врожденной истеричности, а в ее интересном положении, обыкновенном, в общем-то, для женщин, однако совершенно неприемлемом для десятиклассницы. Впрочем, десятый класс Ксюха с горем пополам, но закончила.
Началось все в конце апреля. В половине второго ночи звонок в дверь вытащил Ольгу из кровати. Она не удивилась и даже возмущаться не стала: накинула халат, нашла тапочки и пошла открывать. Ну да, Юлька – она такая, ей плевать и на время суток, и на чужие неудобства.
– Привет, родная, это тебе. – Юлька ввалилась в прихожую с ворохом пакетов, которые кинула прямо на пол, туда же полетели коротенькая шубка из щипаной норки и шляпка-таблетка с куцей вуалью. – Там, погляди, есть милые вещички. А ты что, уже спишь?
– Уже нет.
– Ну не злись, я ненадолго. – Юлька чмокнула подружку в щеку и, не разуваясь, отправилась прямиком на кухню. – Кофе свари, а то устала, сил нет. Господи, да ты не представляешь, что случилось! Я сама в шоке! Я в ужасе!
Мощное Юлькино сопрано заполнило пространство, перекрыв и дребезжание холодильника, и мерный стук капель, и солидное пощелкивание старого будильника.
– Нет, это просто кошмар! Кошмарище!
Ольга кивнула – кошмар так кошмар. Ничего нового, ничего неожиданного, вне кошмаров Юлька не показывается.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |